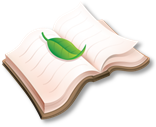3.4.3. Восприимчивость растений к вредным организмам (тактика Т)
Для поддержания всех видов жизнедеятельности вредные организмы нуждаются в пище и энергии, которые они получают от восприимчивых растений, занимая эволюционно-обусловленные экологические трофические ниши в агро- и природных экосистемах. Естественный отбор действует в процессе эволюции в направлении оптимизации доступных ресурсов для размножения популяций.
В зависимости от типа питания в экологии выделяют две группы организмов:
|
Все вредные организмы, кроме сорных растений, относятся к гетеротрофам, получая вещества и энергию от восприимчивых растений, занимая, как мы уже отмечали, различные экологические ниши в агроэкосистемах. При этом возбудители болезней занимают экологические ниши преимущественно внутри органов и тканей растений, реже – на их поверхности: фитофаги – преимущественно на поверхности органов и реже внутри их, а сорные растения – преимущественно около растений и реже на поверхности органов (паразиты типа повилики, заразихи).
Бактерии и грибы, будучи неподвижными, пассивно поглощают вещества всей или частью своей поверхности диффузно-осмотическим способом. Насекомые, гельминты и грызуны активно поглощают вещества благодаря наличию у них грызущего (саранчовые, гусеницы белянок и совок, грызуны), сосущего (бабочки), колюще-сосущего (клопы, тли) ротового аппарата. Сорные растения потребляют воду и минеральные элементы благодаря катионно-обменной емкости корней, а также их всасывающей способности, лишая тем самым культурные растения влаги и пищи, особенно при их дефиците.
Будучи гетеротрофами, вредные организмы различаются по качеству потребляемых ими веществ. Выделяют три группы организмов:
 биотрофы, получающие энергию и питательные вещества от клеток живых растений (мучнисто-росяные, ржавчинные грибы, клопы, тли, повилика, заразиха);
биотрофы, получающие энергию и питательные вещества от клеток живых растений (мучнисто-росяные, ржавчинные грибы, клопы, тли, повилика, заразиха);
 факультативные некротрофы, питающиеся периодически за счет мертвых органических веществ (возбудители парши яблони, корневых гнилей зерновых культур). В процессе паразитирования факультативные некротрофы питаются на (в) живых тканях растений как биотрофы, а в период выживания на инфицированных растительных остатках как некротрофы;
факультативные некротрофы, питающиеся периодически за счет мертвых органических веществ (возбудители парши яблони, корневых гнилей зерновых культур). В процессе паразитирования факультативные некротрофы питаются на (в) живых тканях растений как биотрофы, а в период выживания на инфицированных растительных остатках как некротрофы;
 факультативные биотрофы питаются преимущественно как некротрофы, но периодически используют энергию и вещества живых клеток растений. Например, грибы рода Penicillium обычно заселяют мертвые растительные остатки, но в условиях низкотемпературного стресса для проростков растений могут поселяться на них, используя живые клетки в качестве питательного субстрата. У многих грибных паразитов происходит в процессе жизненного цикла смена типа питания. Например, на ранних стадиях взаимоотношений Phythopthora infestans с растениями картофеля имеет место биотрофия и «паразитический симбиоз» по определению Я. Ван дер Планка. Ядра зараженных клеток хозяина набухают, но остаются живыми и функционируют активно в течение ряда дней до тех пор, пока спороношение гриба не достигает полной силы. После этого следуют некротрофные процессы: спороношение прекращается и более старые зоны отмирают.
факультативные биотрофы питаются преимущественно как некротрофы, но периодически используют энергию и вещества живых клеток растений. Например, грибы рода Penicillium обычно заселяют мертвые растительные остатки, но в условиях низкотемпературного стресса для проростков растений могут поселяться на них, используя живые клетки в качестве питательного субстрата. У многих грибных паразитов происходит в процессе жизненного цикла смена типа питания. Например, на ранних стадиях взаимоотношений Phythopthora infestans с растениями картофеля имеет место биотрофия и «паразитический симбиоз» по определению Я. Ван дер Планка. Ядра зараженных клеток хозяина набухают, но остаются живыми и функционируют активно в течение ряда дней до тех пор, пока спороношение гриба не достигает полной силы. После этого следуют некротрофные процессы: спороношение прекращается и более старые зоны отмирают.
Для освоения клеток и тканей растений в качестве трофической ниши, возбудители инфекционных болезней должны преодолеть защитные реакции растений, которые различаются у био- и некротрофов (табл. 30).
Таблица 30
Особенности взаимоотношений био- и некротрофов с растениями-хозяевами [22]
Показатель |
Паразиты |
Растения |
Биотрофы |
||
Задача |
Проникнуть в клетки хозяина, не погубив их. Питаться готовыми продуктами живых клетов |
Распознать проникающего паразита, чтобы ответить реакцией сверхчувствительности. Превратить некротизированные клетки, где содержится паразит в голодную зону, содержащую яды |
Общий принцип |
Избежать распознавания и включения защитных реакций |
Убить часть своих клеток, чтобы остаться живым в целом |
Некротрофы |
||
Задача |
Убить клетки хозяина с помощью токсинов. Проникнуть в убитые клетки, питаться их содержимым, переваривая его с помощью лизирующих ферментов |
Обезвредить токсины паразита, чтобы остаться в живых и защищаться. Инактивировать ферменты паразита и ингибировать его рост с помощью антибиотиков |
Общий принцип |
Совершенствовать орудия нападения с тем, чтобы убивать клетки хозяина |
Разоружить паразита, чтобы остаться в живых и защищаться |
Формирование трофических экологических ниш у паразитов имеет много общего. Попав к «воротам инфекции» благодаря воздушно-капельному или другому способу передачи, возбудители начинают взаимодействовать с растениями-хозяевами путем распознавания «кто есть кто». Распознавание – это функция преимущественно клеточной поверхности растений-хозяев, где осуществляется первичное взаимодействие с инокулюмом паразита, его идентификация и обеспечение адекватной реакции.
Для распознавания внешнего агента клетки имеют специальные поверхностные рецепторы углеводной или белковой природы. С одними молекулами рецепторы реагируют положительно, другие отторгают, отделяя «чужое» от «своего». К настоящему времени известно более 40 типов подобного взаимодействия. Между клетками хозяина и паразита оно будет различным в зависимости от того, проникает ли паразит внутрь клетки или развивается в межклетниках. Например, фитопатогенные бактерии рода Pseudomonas проникают в межклеточные пространства растений, поэтому между протопластами растения и паразита находятся клеточная стенка растительной клетки и оболочка бактерии. Гифы возбудителя фитофтороза картофеля проникают в его клетки, поэтому взаимодействуют цитоплазматические мембраны хозяина и клеточные стенки паразита. Некротрофы не вступают в контакт с живыми клетками растений, а соприкасаются с предварительно убитыми ими (с помощью токсинов).
Растения распознают паразитов по специальным веществам (индукторам), которые входят в структурные элементы их клеточных оболочек, либо функционируют как экстрацеллюлярные ферменты в клетках. Считают, что это может быть хитин, липополисахариды, пектинолитические и протеолитические ферменты и др. вещества. При взаимодействии с растением-хозяином эти вещества – индукторы «сигнализируют» растению о присутствии паразита. Предполагается, что индукторы проявляют свое действие (и образуются) в процессе взаимодействия паразита и хозяина, поскольку в здоровом растении они отсутствуют.
При болезнях, в которых между хозяином и патогеном существует взаимоотношения типа «ген на ген», восприимчивость растений обусловлена сходством белков хозяина с белками паразита. Вследствие этого, хозяин и паразит узнают друг друга по белкам. В том случае, если при этом участвуют ферменты, то их роль здесь важна как компонентов белковой природы, а не как катализаторов биохимических реакций. Изучение процессов распознавания в системе «растение – паразит» активно продолжается в настоящее время.
Если распознавание заканчивается благополучно, то возбудитель инфицирует растение и тем или иным способом проникает в его ткани. Бактерии преимущественно проникают в растительные клетки и ткани сквозь естественные отверстия на поверхности растений: чечевички, устьица, либо через раны кутикулы. Вирусы могут проникать через раны, механические повреждения или вводятся насекомыми. Патогенные грибы обладают способностью как проникать через раны, так и активно внедряться в неповрежденные растительные ткани через естественные отверстия интактных (лат. intactus – нетронутый) покровных тканей. Во всех случаях возбудитель стремится занять свою экологическую нишу.
Возбудитель может занимать пространство между кутикулой и внешней стенкой эпидермиса клеток листа растений (возбудитель парши яблони – Venturia inaequalis), внешнюю поверхность растения (возбудитель мучнистой росы Erysiphe graminis), межклеточное пространство между мезофильными клетками листьев (ржавчинные грибы), живые клетки растений (возбудитель килы капусты Olpidium brassicae), сосуды ксилемы (возбудители фузариозного и вертициллезного увяданий Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae) и т.д.
Чтобы достичь экологической ниши, возбудитель должен преодолеть «линии обороны» растения-хозяина, что зависит, с одной стороны, от его вирулентности и агрессивности, а с другой – от степени восприимчивости растений.
В паразитарных системах паразитические свойства возбудителя, как правило, «пригнаны» как ключ к замку к специфическим свойствам хозяина, обусловливающим его реакцию на внедрение возбудителя. Очевидно, реакция растения-хозяина служит главным критерием оценки характера восприимчивости его к внедрению и заражению возбудителем. В процессе эволюции произошел отбор тех популяций, цикл развития которых, в какой-то мере соответствовал ритму роста и развития растений-хозяев, а следовательно, возбудитель «научился» противостоять реакциям растения-хозяина, получать от него пространство для жизнедеятельности, питательные вещества и условия для размножения. Все многообразие взаимодействий возбудителя с растением-хозяином подчинены главной задаче – добыть пищу, чтобы обеспечить потомство. Вследствие интенсивного роста и размножения в тканях растений-хозяев возбудитель обладает значительно более активным обменом веществ, а следовательно, значительно большей потребностью в питательных веществах, чем менее активные клетки растений-хозяев. Именно поэтому возбудитель вынужден иметь разнообразные «орудия нападения». Достигая своей цели, он как бы невольно причиняет повреждения растению-хозяину, которые сами по себе не входят в его стратегическую задачу. С общебиологических позиций тактика добывания пищи связана с необходимостью размножения, ухода от лимитирующих факторов окружающей среды, избегания риска подвергнуться нападению конкурентов.
|
В ходе эволюции фитофаги также выработали определенный тип взаимоотношений с кормовыми растениями, проявляющийся в выборе сроков заселения, питания определенными органами растений, организации строения ротового аппарата для добывания пищи, приуроченности к определенным фазам развития и физиологическому состоянию растений-хозяев. |
Хорошо развитые рецепторы обеспечивают широкие возможности выбора насекомыми кормовых растений. Благодаря совершенству органов чувств насекомые воспринимают информацию о свойствах растений (внешнем строении, окраске, физиологическом состоянии, химическом составе) и руководствуются ею при выборе пищи. Насекомые улавливают информацию о содержании в растении аминокислот, фитогормонов, углеводов, белков, жиров, необходимых им для питания. Высокая теплоотдача насекомых, чрезвычайная подвижность в сочетании с огромным воспроизводительным потенциалом, высокие темпы развития и сложность метаморфоза, жестко детерминированные в жизненном цикле, делают насекомых весьма требовательными к пластическому и энергетическому обеспечению. Поступающей в организм насекомых растительной пище принадлежит значительная роль как внутреннего фактора их эволюционного развития.
На разных фазах онтогенеза (индивидуального развития) насекомые испытывают разную потребность в количестве и качестве пищи, что обусловлено направленностью ее использования. Питание на личиночной фазе обеспечивает рост и постэмбриональное развитие насекомых и сопровождается накоплением резервных питательных веществ: белков, жиров и углеводов. От полноценности питания зависит жизнеспособность как личинок, так и развивающихся из них куколок или имаго.
Местом локализации питательных веществ в организме насекомых являются жировые клетки, или трофоциты. Жировые резервы представлены у большинства насекомых липоидными веществами, локализованными в вакуолях (жировых каплях). Жировые и углеводные резервы расходуются, главным образом, на производство энергии. Пластические и энергетические вещества на фазе куколки расходуются на построение органов и тканей, присущих имаго.
Половое созревание у многих видов имаго осуществляется за счет резервов, накопленных на фазе личинки, а также богатой азотными веществами, пищи на фазе имаго. Выявлена прямая зависимость плодовитости самок от размера куколок, что в свою очередь зависит от полноценности питания личинок.
Выделяют три группы фитофагов по способам питания:
 виды, обладающие грызущим ротовым аппаратом, размельчают пищу механическим путем. Повреждения растений носят характер либо грубого объедания органов без выбора (саранчовые, гусеницы лугового мотылька, личинки пилильщиков и др.), либо выборочного объедания, скелетирования, дырчатого прогрызания (земляные блошки, пьявица);
виды, обладающие грызущим ротовым аппаратом, размельчают пищу механическим путем. Повреждения растений носят характер либо грубого объедания органов без выбора (саранчовые, гусеницы лугового мотылька, личинки пилильщиков и др.), либо выборочного объедания, скелетирования, дырчатого прогрызания (земляные блошки, пьявица);
 виды, действующие не только механически, но и химически, обладающие внекишечным пищеварением. При питании они сначала нарушают целостность растительных тканей, а затем выделяют на них ферменты. Так питаются, например, личинки мух;
виды, действующие не только механически, но и химически, обладающие внекишечным пищеварением. При питании они сначала нарушают целостность растительных тканей, а затем выделяют на них ферменты. Так питаются, например, личинки мух;
 виды с колюще-сосущим ротовым аппаратом действуют на растения механически, но в большей степени химическим путем. Так, обыкновенный паутинный клещ в течение 5 минут прокалывает до 100 клеток эпидермиса и паренхимы растений овощных культур, чтобы высосать их содержимое. Однако большинство тлей при проколе производят незначительные повреждения, так как они осторожно вводят свои тонкие стилеты между клетками прежде, чем их проколоть и тем самым повредить клетки паренхимы или ситовидных трубок растений. После введения стилета тли выделяют вязкий секрет слюнных желез, содержащий ферменты, которые приводят содержимое клетки в пригодное для поглощения фитофагами состояние.
виды с колюще-сосущим ротовым аппаратом действуют на растения механически, но в большей степени химическим путем. Так, обыкновенный паутинный клещ в течение 5 минут прокалывает до 100 клеток эпидермиса и паренхимы растений овощных культур, чтобы высосать их содержимое. Однако большинство тлей при проколе производят незначительные повреждения, так как они осторожно вводят свои тонкие стилеты между клетками прежде, чем их проколоть и тем самым повредить клетки паренхимы или ситовидных трубок растений. После введения стилета тли выделяют вязкий секрет слюнных желез, содержащий ферменты, которые приводят содержимое клетки в пригодное для поглощения фитофагами состояние.
Состав слюны различается у разных видов, и даже стадий развития фитофагов. Например, в слюне цикад, сосущих клетки паренхимы, содержатся амилазы и протеазы, которые отсутствуют в слюне цикад, сосущих соки флоэмы. Это объясняется тем, что сок ситовидных трубок (флоэмы) помимо сахаров, содержит свободные аминокислоты, поэтому необходимость в ферментах отпадает. Кроме того, осмотическое давление в ситовидных трубках достигает 20 атм., в результате чего сок из них не высасывается, а заглатывается.
При питании паренхимой (трипсы, цикады, клопы) выделение слюны может происходить непрерывно. Под ее воздействием проницаемость клеточных стенок вблизи места прокола возрастает, и низкомолекулярные питательные вещества диффундируют к месту всасывания. В слюне сосущих фитофагов присутствуют свободные аминокислоты, которые увеличивают скорость движения плазмы, нарушают поглощение воды и транспирацию, неблагоприятно влияют на дыхание и фотосинтез растений. Под их влиянием происходят деформации и галлообразование, представляющие собой защитную реакцию клеток и тканей растений на химические раздражения колюще-сосущих фитофагов.
Вредные организмы различаются приуроченностью к питанию на различных видах растений (филогенетическая специализация), органах растений (органотропная специализация), клетках тканей органов (гистотропная специализация). Например, гусеницы картофельной моли повреждают картофель, табак, баклажаны, в меньшей степени томат и перец (филогенетическая специализация). При этом гусеницы минируют листья, прокладывая ходы внутри главной жилки или около нее и в поперечных жилках (органотропная и гистотропная специализация).
|
По приуроченности к видам растений вредные организмы классифицируют на моно-, олиго- и полифагов. |
Монофаги специализированы к питанию на одном или небольшом числе часто близкородственных видов. Среди паразитов доля монофагов достигает 50 %, в то время как среди фитофагов они встречаются значительно реже. К монофагам относятся возбудители бурой ржавчины ржи, головни пшеницы, просяной комарик, гороховая зерновка. Олигофаги питаются растениями одного или нескольких близких семейств. Среда паразитов их доля достигает 30 %, а среди фитофагов – преобладают. Представителями олигофагов являются возбудители антракноза бобовых, стеблевые бобовые долгоносики, обыкновенный хлебный пилильщик.
Полифаги – многоядны, у них широкая специализация – в пределах десятков видов растений из многих семейств. Среди паразитов они составляют около 15 %, а среди фитофагов встречаются довольно часто. К полифагам относятся: возбудители белой и серой гнилей сельскохозяйственных культур, бобовая, или акациевая огневка, саранчовые, стеблевой мотылек и др. Например, гусеницы стеблевого мотылька повреждают около 50 видов культурных растений и 100 видов дикорастущих.
Для избежания конкуренции за пищевые ресурсы вредные организмы разграничивают свои трофические ниши во времени и в пространстве, питаясь не только культурными растениями, но и сорными, а также дикорастущими, произрастающими в естественных экосистемах. Многие насекомые-фитофаги после освоения целинных и залежных земель стали вредителями, переселившись на посевы сельскохозяйственных культур.
Сравнение между целинной степью и пшеничными полями вблизи Орска (Оренбургская обл.) показало, что из 330 степных наземных видов на полях пшеницы оставалось лишь 142, причем среднее число особей на 1 м2 составляло в степи 199, а на пшеничном поле – 351. Число доминантных и постоянных видов в степи было 41, а на пшеничном поле 19. Эти 19 видов включали 94 % всех обитающих на полях беспозвоночных, в то время как вдвое большее число доминантных и постоянных видов в целинной степи включало лишь 54 % общего числа особей. В частности, на пшенице возросла численность трипса, полосатой и стеблевой блошек [2].
Экономически значимый на озимой пшенице вредитель клоп вредная черепашка эволюционно адаптирован к питанию дикорастущими злаковыми травами в высокогорных степях Кавказа и в горах юго-западной Азии. При выращивании пшеницы в степных областях численность вредителя сильно возросла, а общий ареал расширился. Клоп вредная черепашка стал одним из опаснейших вредителей в Турции, Иране, Ираке, на юге Российской Федерации. Вследствие способности уходить в диапаузу уже летом, он без ущерба переносит неблагоприятное для него время после уборки зерновых. Его фенологический ритм особенно хорошо совпадает с ритмом пшеницы, и это, вероятно, способствовало заселению больших массивов пшеницы в условиях ее монокультуры.
Хлебный жук-кузька только после перехода к монокультуре хлебных злаков во второй половине XIX в. стал вредителем культурных растений на Украине, в то время как на естественных лугах он встречается лишь в небольшом количестве. Естественным биотопом лугового мотылька была степь. В настоящее время он встречается и в зоне лиственных лесов средней Европы.
В агроэкосистемах адаптировались те виды, для которых культурные растения были более привлекательным пищевым субстратом. Например, широкое распространение колорадского жука на картофеле связано с освобождением картофеля в процессе селекции от высоких концентраций сапонинов, алкалоидов, глюкоалкалоидов и др. веществ, свойственных представителям этого рода в естественных экосистемах.
В установлении новых трофических связей активная роль принадлежит имаго.
Личинки старших возрастов, как правило, не переходят на другие растения, в то время как личинки младших возрастов после длительного голодания это делают, хотя доля гибели их может быть высокой. На последующих стадиях роста смертность личинок снижается, однако у куколок вновь возрастает. Существует «правило выбора хозяина», отражающее значение привычки к определенной пище, которое означает предпочтение более старшими возрастами и стадиями развития насекомых корма, которым фитофаг питался во время начального развития. Даже откладка яиц производится охотнее на тех кормовых растениях, на которых происходило развитие самок.
Имаго, выполняя функции расселения вида, часто откладывают яйца на новых кормовых растениях, и новое поколение личинок охотно питается этими растениями без серьезных физиологических нарушений. Например, при введении сои в центральные штаты США постепенно на ней приспособились питаться, став вредителями, кобылки, личинки капустных мух и хрущей, ранее неизвестные на этой культуре.
Плотность и характер размещения пищевых ресурсов особенно важны для малоподвижных насекомых. Например, жук-листоед (Chrysomela gemellata) питается листьями зверобоя. Размножаясь, он уничтожает весь корм, находящийся в месте расположения данной колонии, после чего жуки мигрируют, но, вследствие малой подвижности, они не могут переместиться далее 60 м. Если на этом расстоянии не находятся корма, колония гибнет, а запасы спорадично распространенной пищи остаются неиспользованными.
Такая ситуация возможна в естественных экосистемах, где кормовые растения разбросаны мозаично по территории небольшими семьями, куртинами. В агроэкосистемах кормовые растения произрастают большими массивами восприимчивых генетически однородных сельскохозяйственных культур. Устойчивые сорта среди сельскохозяйственных культур занимают всего лишь 10–15 %, а основная масса культурных растений отличается той или иной степенью восприимчивости к вредным организмам, обеспечивая их необходимыми ресурсами веществ и энергии. Кроме того, вредные организмы обладают значительной изменчивостью и от питания излюбленными растениями переходят на заменяющие их случайные, избегая преимущественно только отпугивающих растений. Например, колорадский жук предпочитает питаться листьями картофеля, но при необходимости (для утоления жажды) жуки поедают листья гороха, однако избегают растений лебеды, обладающей репеллентными свойствами. При питании фитофагов несвойственными растениями длительность развития и выживаемость их потомства различны (табл. 31).
Таблица 31
Выживаемость и длительность развития гусениц огневки при питании различными растениями
Корм |
% выживших гусениц |
Длительность фаз гусеницы и куколки, дни |
Зародыш пшеницы |
100 |
42 |
Пшеница |
87 |
50 |
Табак |
10 |
120 |
Бобы |
6 |
диапауза не завершена |
При питании гусениц озимой совки на лебеде бабочка откладывает 940–1700 яиц, на кукурузе – только 80–290. Фасолевая зерновка при питании фасолью откладывает 79 яиц, горохом – 34, чечевицей – только 19.
Для выживания в зимний период гусеницы златоглазки должны питаться в осенний период зрелыми листьями дуб, богатыми сахарами и клетчаткой. Их выживаемость в этом случае составляла более 60 %. При питании молодыми листьями вторичного роста, богатых белками и водой, бедных сахаром, гусеницы оказывались физиологически не подготовленными к зимовке, и их выживаемость падала до 10–12 %. Влияние энтомофагов было менее заметным.
В отличие от гетеротрофов (бактерий, грибов, насекомых, нематод, грызунов) большинство сорных растений обладают способностью к самостоятельному (автотрофному) питанию, конкурируя в агроэкосистемах с культурными растениями за доступные ресурсы воды, минеральные вещества в почве, свет. Часть сорных растений адаптирована к паразитическому образу жизни на корнях культурных растений (корневые паразиты) или надземных органах (стеблевые паразиты). Они полностью утратили хлорофилл, а их листья превратились в бесцветные желтоватые или буроватые чешуйки. Для присасывания к корням растений цветковые паразиты формируют присоски (заразиха) или гаустории (повилики), через которые поступают питательные вещества и вода. Особенно большой ущерб причиняет подсолнечниковая заразиха и клеверная повилика.
В условиях недостатка пищи трофическая экологическая ниша у популяций видов расширяется, в то время как при доступности ресурсов – сужается. Соответственно в первом случае возрастает число видов с широкой специализацией, а во втором – с узкой. Например, обыкновенная полевка в лесостепи и на пойменных лугах питается 80–100 видами растений, а общественная полевка в полупустыне – 155 видами. В целом более узкая специализация фитофагов чаще отмечается в агроэкосистемах, чем естественных, в тропиках и тайге, чем в степи.
Большая роль в питании вредных организмов в агроэкосистемах принадлежит особенностям сорта и присущей сорту генетической устойчивости. Если сорт обладает вертикальной устойчивостью, которая контролируется по типу «ген-на-ген», то сорт практически полностью теряет способность служить пищевым субстратом для вредных организмов, особенно фитопатогенов. Вертикальная устойчивость обычно наследуется моногенно, и она почти всегда доминирует над восприимчивостью.
Если же сорт (а такие преобладают) обладают горизонтальной, или полигенной устойчивостью, то он остается восприимчивым в той или иной степени к вредным организмам. Этот тип устойчивости называют пониженной восприимчивостью.
В большинстве случаев горизонтальная устойчивость защищает растения от полифагов, а вертикальная – от монофагов. В случае сочетания обоих типов устойчивости вертикальная задерживает начало ЭП, а горизонтальная – замедляет его скорость.
Наиболее устойчивые к болезням популяции растений формируются в естественных экосистемах центров сопряженной эволюции хозяина и паразита. Например, родина пшеницы – Кавказ, Иран, Малая Азия, Восточное Средиземноморье. В этих местах найдено наибольшее число ее видов (16 только на территории Кавказа), многие из которых отличаются высокой устойчивостью к возбудителям болезней или даже групповой устойчивостью к ряду возбудителей, поэтому широко используются в практической селекции.
Центром сопряженной эволюции картофеля и возбудителя фитофтороза служит Мексика и Гватемала. Произрастающий там картофель имеет самый широкий в мире набор генов устойчивости, а паразит – наибольшее разнообразие генов вирулентности.
Если первичные центры формирования растения и паразита не совпадают, то наиболее устойчивые формы находят на эволюционной родине паразитов. Предполагают, что первичный генетический центр табака – Южная Америка, но наибольшее число устойчивых к ложной мучнистой росе форм найдено в Австралии, где возник возбудитель.
Характерной особенностью стабильных паразитарных систем в естественных экосистемах является генетический полиморфизм популяций растений-хозяев, который необходим для защиты их от популяций паразита. В целом, природная популяция растений-хозяев отличается по генам вертикальной устойчивости и толерантности к паразитам. Причем, гены вертикальной устойчивости «рассыпаны» в популяции растений, что создает генетический полиморфизм по этому признаку. Кроме того, сама структура естественных фитоценозов биологически разнообразна, а поэтому концентрация растений-хозяев небольшая. Будучи саморегулирующимися системами, популяции вредных организмов способствуют формированию разреженности в фитоценозах растений-хозяев, что приводит к разреженности их самих.
В отличие от естественных, в агроэкосистемах предпочитают возделывать чистые линии сортов сельскохозяйственных культур, однородные по генам. Причем, эффективные гены защиты от паразитов переносят во многие сорта с помощью беккроссов, которые позволяют сравнительно быстро осуществлять данный процесс. В результате этого создаются сорта с узким генетическим разнообразием. Так, многие отечественных сорта озимой пшеницы (Белоцерковская 198, Мироновская 808, Безостая 1, Ранняя 12, Осетинская 3 и другие) имеют один и тот же ген устойчивости к бурой ржавчине (Lr 8), что вызвано преобладанием в популяции паразита на территории бывшего СССР 77 расы. Все новые сорта хлопчатника являются по существу близкими родственниками районированного сорта Ташкент 1.
|
В агроэкосистемах не только возделываются сорта с узкой генетической основой, но, что не менее существенно, они занимают крупные массивы при низком разнообразии видов культурных растений в структуре пашни. |
К началу 90-х годов XX столетия интенсивно культивировалось примерно 150 видов растений, из которых 15 видов занимали основные площади пашни. Тенденция к монокультуре привела к образованию гигантского кукурузного пояса в средней полосе США, бескрайних пшеничных полей в Казахстане и Сибири, «белого моря» посевов хлопка в Средней Азии. В Англии из 4,9 млн. га пашни 3,6 млн., или 73 %, были заняты пшеницей и ячменем. На половине этой площади выращивали всего три сорта пшеницы и четыре сорта ячменя. В США 53 % всей площади под хлопчатником занимали три сорта, 72 % площади под картофелем – четыре сорта, 65 % площадей под рисом – четыре сорта. Из 269 сортов пшеницы девять занимали 50 % посевов, из 197 гибридов и сортов кукурузы – шесть – 71 % посевов. Вследствие этого восприимчивость растений к вредным организмам нередко доминирует в агроэкосистемах, создавая неограниченные пищевые ресурсы для адаптированных к ним вредных организмов. Незначительная доля (10–15 %) устойчивых сортов способна обеспечить локальную стабилизацию фитосанитарного состояния посевов преимущественно по отдельным вредным организмам. Например, одна исходная самка тли дает при питании на устойчивом сорте на 40-й день 39 потомков, а на восприимчивом – более 22 млн. Известны случаи стабилизации фитосанитарного состояния по подсолнечниковой огневке благодаря выведению панцирных сортов подсолнечника. Тем самым устойчивые сорта могут служить важнейшим фактором элиминации наиболее опасных вредных организмов из агроэкосистем или резкого снижения их численности.
Таким образом, тактика трофических связей имеет огромное значение для всех таксономических групп вредных организмов, будучи неотъемлемой частью их жизненного цикла в агро- и естественных экосистемах. При этом в агроэкосистемах при генетической однородности сельскохозяйственной культуры трофические связи вредных организмов сужаются, растет их специализация, в результате чего они концентрируются на излюбленных растениях, обеспечивающих максимальную реализацию их репродуктивного потенциала при неограниченных пищевых ресурсах. Это создает предпосылки для массового размножения специализированных видов, дестабилизации динамики их численности с пиком при наступлении благоприятных условий. Вследствие этого динамика ЭП достигает уровня эпифитотий и даже панфитотий.
Восприимчивые растения – заключительное звено в цепи ЭП, тесно связанное с источником ВВО и выживаемостью вредных организмов в экосистемах, обеспечивающее саморегуляцию ЭП и жизненного цикла вредных организмов. Стабилизация этого звена, повышение его генетической и физиологической устойчивости путем выведения сортов с комплексной устойчивостью к вредным организмам, совершенствования агроэкосистем, севооборотов и конструирования агроландшафтов – важнейшая задача интегрированной зашиты растений.
 Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник
Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ